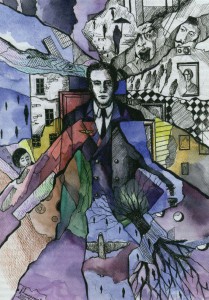 Попытка Потоцкого объединить искания большой литературы и научную фантастику вроде бы должна была меня воодушевить. Но тогда я поставил — стыдно сказать — одну звезду из пяти возможных.
Попытка Потоцкого объединить искания большой литературы и научную фантастику вроде бы должна была меня воодушевить. Но тогда я поставил — стыдно сказать — одну звезду из пяти возможных.
Рассказ называется «40 000 смертей бортпроводника Живова». Это комбинаторный текст. Он состоит из экспозиции, двадцати завязок, кульминации и двадцати развязок. Читатель должен проложить через этот лес свой маршрут, выбрав произвольные завязки и развязки. Самое короткое путешествие будет состоять из четырёх фрагментов, самое длинное — из сорока двух. Всего же существует около 1038 разных способов прочтения, то есть сто триллионов триллионов триллионов. Так что «сорок тысяч» в заглавии нечто вроде народного «сорок сороков», то есть очень и очень много. Но как бы вы ни читали, в конце каждого фрагмента бортпроводник Живов погибает. Впрочем, нет. Умирает он не во всех фрагментах. И вот тут-то начинается интересное.
Но сначала расскажу, что же всё-таки происходит в рассказе. Речь там идёт о некой расе под названием симфы: «бродяги высших сфер», «паломники квазиверсума», «ревизоры квантовых флуктуации». За основу автор взял знаменитую трактовку квантовой механики, в которой система не выбирает одно из двух состояний, а принимает оба и таким образом разветвляется, причём одна из ветвей уходит в параллельный мир. И наша реальность только один отросток чудовищно ветвистого древа. Точнее, гусеница на конце отростка, который ежесекундно удаляется от основания ствола на тысячу миров. Для обозначения всего этого в рассказе предлагался термин «симфеон», или «квазиверсум», или ПВА — «пространство всех альтернатив». Отсюда и «симфы» — существа, свободно путешествующие по древу альтернативных реальностей, челноки, прошивающие ткацкий станок мультивселенной. Живов оказывается одним из них.
Вот что я писал о сюжете рассказа уже гораздо позже, после второго прочтения.
«Бортпроводником Живов работал только в одной из реальностей — «материнской», той, в которой он вырос. В первом фрагменте он, казалось бы, не делает ничего выдающегося. Во время традиционного инструктажа перед началом полёта Живов защёлкивает ремень безопасности и вдруг — проваливается в симфеон. Почему? В этом главная интрига рассказа. Оказавшись в квазиверсуме, на перекрёстке переполненных меташоссе, он начинает путешествие.
В мультивселенной Потоцкого каждое разумное существо не точка, а пространство, облако, размазанное по мириадам параллельных миров. Каждое отдельное действие в одном из миров — еле заметное коленце, которое выписывает только одна из миллиардов ваших ложноножек».
Работая над статьёй, я довольно много места уделил симфам. Симфов можно назвать «туристами поневоле». Они как многомерные электрические овцы в момент короткого замыкания. К пробуждению симфа может привести любое продублированное событие. И вдруг двухполосная дорога сужается до однополосной, далёкие друг от друга ветви дерева срастаются, места для пары гусениц становится маловато — и одну из них выбрасывает в пространство между ветвями. (В другом фрагменте встречается такое объяснение: «Симф подобен фасеточному глазу стрекозы, одна часть которого случайно увидела другую — и провалилась в ad infinitum — в бесконечность».)
Пробуждённый симф может выбирать, чем ему заняться в муравейнике квазивер-сума. Кто-то становится симфеологом — исследователем невообразимых глубин симфеона; кто-то — симфеоником, или симфантом, то есть автором собственной творящей фантазии (сам акт воображения мира отпочковывает новый мир); кто-то — симфадуром или симфарадником. Несчастных постигает судьба симфобов и симфреников. Счастливым уготован титул симфеарха — мудреца и покровителя симфов. Некоторые решают вернуться в свой локальный сон, а если им это не удаётся, они зависают в промежуточном состоянии. Но Живов не становится никем из них. Ему предстоит стать по отношению к мультивселенной «нигдешним» и «никогдашним». Космос вымарывает Живова из всех бесчисленных черновиков. В какой-то момент бортпроводник обнаруживает, что может абстрагироваться от происходящего, как бы встать в стороне. И вот, продолжая низвергаться в мультиад, герой начинает расследование, которое и составляет суть рассказа.
Сначала бортпроводник поддаётся панике. Вереница развязок без завязок кажется вызывающе бессмысленной. На помощь герою приходят другие обитатели симфеариума. Бродячий симфеонавт кратко вводит Живова в физику симфеона. Несчастный симфреник, испытавший нечто подобное тому, что выпало на долю Живова, потерявший большинство своих альтер — эго и теперь способный лавировать только между тремя одинаково отвратительными мирами, уверяет героя, что рано или поздно свистопляска прекратится.
На пути Живова попадается коварный симфеодал, который пытается завербовать героя, чтобы он стал его вассалом и помог в войне с соседними симфеодами.
Каждый из встреченных симфов выдвигает новую версию в деле Живова. Особенно его увлекает вариант, подсказанный безобидным тронутым симфриком и по совместительству конспиросимфом: тот убеждён, что Живов стал пешкой в чьём-то преступном замысле, что ему надо найти того, кто его подставил. С этим созвучна версия о мультиверсальном покаянии Живова: якобы он совершил какой-то проступок, и могущественная секта сим-фанатиков, а может быть, их Симфаал собственной персоной показал его таким образом.
Когда я в первый раз читал Потоцкого, мне не терпелось добраться до конца, и траектория получилась из пятнадцати фрагментов. Я выбрал наугад одну из завязок — на восьмой странице. В дальнейшем она действительно стала моей любимой.
«Версии множатся, сплетаются, распадаются, как сами миры, но всё это — только прелюдия. Ближе всего к полиистине герой подходит, встретившись с престарелым симфеархом по кличке «экс-уай-зет» (XYZ, Ксиз), благодаря ему герой кое-что проясняет для себя.
Прогуливаясь между мирами, Ксиз и бортпроводник размышляют о том, что в мультивселенной возможно абсолютно всё. Следовательно, абсолютно всё реализуется. Если возможно представить такое фантастическое стечение обстоятельств, настоящий танцующий фонтан обстоятельств, при котором один и тот же человек одновременно погибает в каждом из миров, — значит, такой человек должен найтись. Ровно один на весь царь-космос, на все пространства — времена, на всю камасутру великого отца и великой матери. И это поистине — совпадение совпадений. «Но ведь не может же быть, что я — победитель наименее беспроигрышной лотереи в мультивселенной!» — восклицает Живов. «Должен же быть победитель? Вот ты есть хоть кто-то», — отвечает Ксиз. И советует молодому человеку не задаваться пустыми вопросами, точно так же как в детстве нет смысла спрашивать: «Почему я — это я, а не кто-нибудь другой ? ».
Симфеарху удаётся убедить Живова. И вот они подходят к последней реальности. Что тоже довольно иронично, учитывая, что количество параллельных миров по умолчанию бесконечно.
И тут Живов, уже как будто смирившийся со своей ролью мультикосмического козла отпущения, вдруг проявляет слабость. Он думает: «Ну а что если я не тот, о ком говорит симфеарх, что если мне останется один крошечный завалящий мирок — ив нём одном я доживу до старости ? » Мудрец Ксиз даже немного обижается на спутника за такие мысли. Как, он готов променять звание Первопроходца Тотальной Смерти на какую-то периферийную жизнь? И ведь даже если ему отпущен ещё год или там миллиард лет, всё равно затем его ждёт дверь аварийного выхода. Живов колеблется — но понимает, что хочет ещё жить.
Далее — пересказ двадцать первого фрагмента, кульминации, которую, как и экспозицию, читатель не выбирает.
Утро последней казни. Но где Живов обнаруживает себя? В салоне самолёта, посреди деловитого жужжания кондиционеров, с ремнём безопасности в руках. Он внимательно смотрит по сторонам: здесь, должно быть, что-то не так, как в первый раз, в материнском мире. А надо сказать, что за время путешествия он досконально изучил обстоятельства первого катапультирования. «Должно быть какое-то важное отличие», — говорит он себе, машинально продолжая инструктаж. Что же произойдёт? Обнаружит ли он некий знак, который подскажет, в чём смысл происходящего? А может быть, окажется истинной версия одного из ранних собеседников Живова и он, например, обнаружит в кресле 21FTOro самого заговорщика, который подставил его, и успеет скрутить злоумышленника? А может быть, истинна версия одной встреченной на пути симфетки, которая утверждала, что там, в самолёте, Живов не ответил на улыбку какой-то девушки и потому провалился в водоворот прожорливых миров? Тогда нужно найти эту девушку и тут же улыбнуться… И вот, в последний момент, всё наконец решается.
Но как — полностью зависит от читателя!
Тридцать лет назад именно это место в высшей степени озадачило меня. Я ощутил противоречивость собственного читательского опыта. С одной стороны, я ХОТЕЛ увидеть развязку — по старой читательской привычке, от которой так и не удалось отучиться. С другой стороны, было ясно, что развязка разочарует меня.
Просто-напросто придумал неразрешимую интригу. Подвесив финал, автор отчасти высмеял парадокс читателя, передразнил его.
Итак, в тот раз я без энтузиазма пролистал все варианты развязок и выбрал в качестве окончательной концовки следующий кусок (описание из моего текста пятнадцатилетней давности):
«Желание героя исполняется. Ремень защёлкивается, но воздух не утекает с леденящим душу свистом. Всё-таки Живов — тот, кого американцы называют runner-up (занявший первое место. — Прим. ред.), и ближайшую жизнь ему предстоит прожить, взвешивая каждое мгновение, каждое решение на весах вечной ночи, которая его поджидает. Как будто остальные не ведают своего местоположения в дебрях лабиринта, и только он один знает, что находится совсем рядом».
Я был уверен, что именно это — правильный финал, то есть такой, который сам Потоцкий считал наиболее финальным. Фрагмент обладал большим дидактическим потенциалом. Тогда-то я и отбросил книгу. Неужели автор морочил мне голову только ради того, чтобы повторить вслед за Горацием «Сагре diem» — наслаждайся моментом? А главное, зачем перекладывать ответственность за развитие сюжета на читателя? Мол, не понравился рассказ — сами виноваты, следовало подбирать фрагменты тщательней!
Прошло пятнадцать лет. Как-то я затеял переезд, начал перебирать архивы в кабинете и раскопал первую разгромную рецензию на рассказ Потоцкого. Какая недальновидность! Ведь я сам, а не автор выбрал ту концовку. Пришлось сесть перечитывать рассказ — и открывать совершенно новый текст! Именно к тому времени относится более пространная статья — своего рода извинение перед автором «40 000 смертей…». В качестве завершающего аккорда я выбрал фрагмент на тридцать первой странице:
«Все версии, перечисленные по ходу рассказа, оказываются верны. В салоне самолёта, как в колоде козырных тузов, каждый виноват в мультисмерти Живова: заговорщики, симфанатики, обидчивые девицы и так далее. В этом варианте бортпроводник завершает круг перевоплощений и окончательно « канает в Лету», как написал мой сын в школьном сочинении. Но за секунду до того герой вдруг понимает, что истинная причина происходящего — он сам. Живов поверил в каждую из версий и тем самым удостоверил их. Превратил в истинные причины. Молодой человек понимает, что его злосчастное путешествие началось в тот момент, когда он с отсутствующим видом проводил инструктаж для пассажиров. В тот самый момент, когда ему было скучно, когда где-то в глубине души ослабил хватку жизни. А все остальные версии — просто для отвода глаз. Для отвода собственных глаз».
Странно, конечно, сравнивать собственные тексты, написанные с пятнадцатилетним интервалом. Никакого сына и никаких школьных сочинений на момент первого знакомства с рассказом ещё не было…
Произведение заиграло по-новому. Концовка осталась довольно назидательной, но уже не такой банальной. Однако больше всего меня поразило другое: Потоцкий описывал мой собственный опыт чтения его рассказа в первый раз! Ведь это обо мне написано: «Он сам поверил во все озвученные версии»! Я оборвал автора на полуслове — и обвинил в косноязычии.
Тридцать лет назад рассказ казался мне похожим на какой-то бурлеск. Спустя годы фантастическая составляющая отошла на задний план — собственно, как и в моих литературных предпочтениях. К тому моменту я осознал истину, прекрасно сформулированную поэтом Славомиром Адамовичем: «Потолок фантазии — реальность». Меня начали интересовать другие литературные материи: я набирал дипломников с темами про Бахтина, Флобера, Умберто Эко. Одним словом, рассказ Потоцкого будто бы повзрослел вместе со мной. И Живов теперь становился жертвой не слепого фантастического случая, но собственного бездействия.
Интересно, что как раз в это время переживало расцвет движение инфинитистов с их бесконечной литературой. И тут астрономическое количество прочтений рассказа пришлось как нельзя кстати. Да и мир Потоцкого, мир бесконечных миров, тоже вписался в тему. Казалось, автор написал текст на вырост, до которого читатели и критики доросли только теперь.
Статью я так и не опубликовал. Другие заботы овладели мной, и я забыло бортпроводнике Живове ещё на долгие пятнадцать лет. И поэтому, когда на прошлой неделе один из моих студентов прислал ссылку на «40 000 смертей…», у меня в голове произошёл маленький большой взрыв.
Лирическое отступление: я сейчас чувствую себя немного как герой фантастического романа Джона Серафини мистер Слоним, литературный критик, постоянно попадавший в передряги. Один раз он, например, не на жизнь, а на смерть боролся с другим критиком, также литературным персонажем — героем книги в мире самого Слонима. Так вот, этот критик второго порядка воспринимал реальность мистера Слонима как книгу — и трактовал её на свой лад. Два героя начали «войну трактовок»: оба пытались так проинтерпретировать реальности друг друга, чтобы избавиться от соперника. Я это к чему: книжка Серафини — единственный известный мне пример остросюжетного романа, где главный герой — литературный критик. И сейчас я чувствую себя именно мистером Слонимом, потому что рассказ Потоцкого превратил мою собственную жизнь в, в котором герой постигает подлинный смысл случившегося спустя много лет.
Неделю назад я снова открыл «40 000 смертей…», перечитал их и понял, что заблуждался и тридцать, и пятнадцать лет назад. Теперь в качестве развязки я выбрал сороковой фрагмент — один из двух, в которых герой не умирает. Чем же закончилась для меня история бортпроводника Живова на этот раз? (Это снова цитата — из новой статьи о творении Потоцкого, которую я готовлю к печати.)
«Он застёгивает ремень- и вдруг на него нисходит озарение силой в семьсот килобудд. Живов понимает, в какой альтернативной реальности оказался: в той, в которой никакого падения не было! Но, что гораздо поразительнее, не было в ней и никакой мультивселенной. Ведь в симфеоне такой мир тоже возможен, а значит, существует. И чтобы умереть во всех мирах, нужно умереть и в том мире, в котором ты не умираешь и в котором вообще вся эта болтовня о многих мирах ничего не значит! Получается удивительный парадокс. Живов понимает, что симфеарх ошибался и кошмар абсолютной смерти — не более чем сон. Как, впрочем, и весь квазиверсум. Тут бортпроводник хватается за голову: квазиверсум! Симфы прекрасно знали то, что он понял только сейчас… И бортпроводник Живов роняет ремень безопасности из рук».
Рассказ опять подвергся полному переосмыслению и стал ещё менее фантастичным! В последнем фрагменте Потоцкий оставляет место для сугубо реалистической интерпретации: всё случившееся — просто метафизический приступ в голове главного героя! Парадокс как бы выдавливает его из мультиверсума обратно в универсум. Невозможность, внутренняя противоречивость абсолютной смерти в мире Потоцкого может быть экстраполирована в наш мир. Получается, что автор рассказа с мрачным названием «40 000 смертей бортпроводника Живова» пытался ни много ни мало доказать бессмертие души.
Но было ещё кое-что. Я обратил внимание на тот фрагмент рассказа, где говорится о симфантах. Они создают параллельные миры просто одним актом воображения. «Да это же «Число зверя» Роберта Хайнлайна», — сказал я себе и принялся искать другие аллюзии в тексте. Их оказалось очень много. Я обнаружил аллюзии на Станислава Лема (слово «нигдешний» употреблялось в одной философской тираде в романе «Осмотр на месте»), Йэна Бэнкса (симфетки Потоцкого могут переносить своих партнёров в параллельные миры во время интимной близости, точь-в-точь как героини романа Бэнкса «Переход»), Виктора Пелевина (демон-демиург в его рассказе «Отель хороших воплощений» выходит из священного транса, увидев своё отражение в бутылке, — «фасеточный глаз стрекозы, одна часть которого случайно увидела другую»). Как от меня ускользнуло, что сорок две главы — очевидная отсылка к Дугласу Адамсу! Я находил аллюзии почти на любого фантаста, которого смог вспомнить, причём ровно на одного в каждом фрагменте. Выходило, что каждое очередное путешествие Живова — это разновидность фантастической литературы.
Но главная подсказка ждала меня как раз в сорок втором фрагменте. Дело в том, что в последних девяти словах рассказа акростихом читается слово «кенотафия». Это любопытный пример контронима — слова, противоречащего самому себе. С одной стороны, его можно расшифровать как «эпитафия по Кено». Имеется в виду Раймон Кено, создатель «Ста тысяч миллиардов стихотворений» и других комбинаторных шедевров, один из основателей французского объединения «Улипо», Мастерской потенциальной литературы. Потоцкий в молодости увлекался литературными играми улиповцев. С другой стороны, кенотаф — это «пустая могила», мемориал, не содержащий никаких останков покойного. Значит, «кенотафия» — это эпитафия Кено, чья могила пуста, или же эпитафия неумершему Кено, или же эпитафия неумершей литературе. Потоцкий высмеял, подорвал смерть не только своего героя, но и всей литературы.
В первый раз рассказ открылся для меня как цирковой номер с жонглированием научно-фантастическими кеглями, во второй — как притча о слабости воли, в третий — как апология литературы и литературного процесса. Рассказ снова будто вырос вместе с эпохой. Сомнения в будущем литературы, мучившие меня и моё окружение тридцать лет назад, Потоцкий отметал точно так же, как их отмело само время. Пусть очередной автор уйдёт в небытие, пусть очередное направление выдохнется, литература никуда не денется, потому что само её умирание превращается в сюжет.
Я бы с удовольствием обсудил это с Потоцким. Я бы с удовольствием узнал у него, зачем он тридцать лет водил меня за нос. Но если герою и литературе в целом не страшны сорок тысяч смертей, автору оказалось достаточно и одной.
Неделю назад студент прислал мне две ссылки: вторую — на сам рассказ, а первую — на новость о кончине Потоцкого. Так что материал, который я готовлю, одновременно будет и некрологом.
Я почти дописал его. Но чего-то не хватает. Концовка никак не получается. А что, если я не увидел чего-то ещё более важного? Что, если через пятнадцать лет я открою рассказ про бортпроводника — и пойму, что был слеп? Может быть, текст заставит меня поверить во что-нибудь совсем уж невероятное. Например, в то, что смерть Потоцкого так же внутренне противоречива, как и смерть Живова, а значит, по большому счёту, просто не может восприниматься всерьёз.






